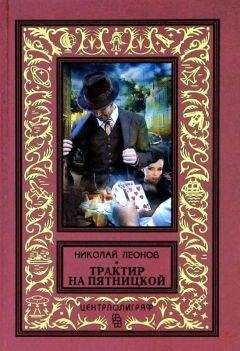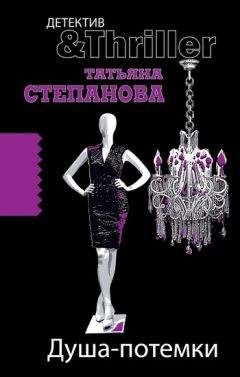Николай Леонов - Один и без оружия [Трактир на Пятницкой. Агония]
Сынок и Хан, тесно прижимаясь друг к другу, бросились в проходной двор, и в переулке стало пусто, лишь конвойный лежал на боку, будто пьяный, и ветер припорашивал его пылью. Туча ползла, погромыхивая, несла с собой тьму, как бы пытаясь скрыть происшедшее в переулке. Ветер притих. Одиночные капли ударили по мостовой. Конвойный сел, держась за голову, потом с трудом поднялся, оглянулся.
Дождь упал отвесный, прямой, мгновенно вымыл дома, ручьями ринулся вдоль тротуаров, все шире разливаясь по мостовой. Потоп, обрушившийся на Трубную, начинался где-то на улице Воровского. Здесь, у аристократического особняка, воды было еще немного, она медленно наплывала на Арбатскую площадь, где соединялась с ручейками, спускавшимися с Гоголевского бульвара, и уже речкой направлялась по трамвайной линии «А», которую москвичи звали «Аннушкой». У Никитских ворот образовалось озеро, оно стекало по Тверскому бульвару, мимо Горсуда, у памятника Пушкину раздваивалось, часть воды уходила направо по Тверской, а основной поток продолжал бег по рельсам «Аннушки», пересекал Петровку и выливался на Трубную площадь. Здесь путь ему преграждал вздыбившийся горбом Рождественский бульвар, который сюда же сливал воду, накопленную на Сретенке. Трубная оказалась на дне моря.
— И настал конец света, — сказал Сынок философски, глядя на затопленный до подножки трамвай и накренившуюся набок и готовую вот-вот упасть афишную тумбу.
Беглецы сидели в небольшой закусочной, двери которой распахнул нэп. Обычно полупустая, сейчас она была набита мокрой и шумной публикой. Люди, ничего не евшие в жару, жадно уничтожали сосиски и пиво. Хан и Сынок, попавшие сюда одними из первых, оказались зажатыми в самый дальний угол, у окна. Было душно и сыро, как в предбаннике, никто не обращал внимания на смокинг Сынка и обтрепанный пиджачок его соседа. Правая рука одного была пристегнута к левой руке другого стальными наручниками. Скованные руки беглецы, естественно, держали под столом. Хан смотрел на окружающих угрюмо и настороженно, Сынок же, улыбаясь, зыркал голубыми глазами и по-детски шмыгал носом.
— Простудился, вот незадача, — сказал он весело, ткнул своей кружкой в кружку соседа. — Тебя как звать-то? Мы ведь теперь братья, даже ближе, — он дернул под столом рукой, натянул цепь.
— Хан.
— Батый? — Сынок подмигнул. — Видать, что ты косоглазому татарину родственничек. Видать, твоя какая-то бабка приглянулась татарчонку. — Он говорил быстро, блестел белыми зубами, глаза его, только что наивные и дурашливые, изучали соседа внимательно, чуть ли не царапали, пытаясь заглянуть человеку внутрь.
Сынок неожиданно отставил кружку, распахнул Хану ворот рубашки, потянул за цепочку, вытащил крестик.
— Хан, Хан, — повторил он, — а крестили как?
— Степаном, — Хан медленно улыбнулся, и лицо его просветлело, на щеке образовалась ямочка. — Один я в роду такой чернявый, батя и брательники вроде тебя.
— А меня Николаем окрестили, среди своих Сынком кличут, — радостно сообщил Сынок, однако взгляда цепкого не опускал, разглядывал Степана внимательно и был осмотром явно недоволен. — Значится, Степан и Николай. Два брата акробата. Тебя что же, Степа, взяли от сохи на время?
— Что? — спросил Хан.
— По-свойски не кумекаешь? Я спрашиваю, мол, случайно погорел, не деловой? — Сынок выпил пиво, отставил пустую кружку.
Хан не ответил, лишь плечами пожал, разгрыз сушку, тоже допил пиво и спросил:
— Как расплачиваться будем? У меня в участке последний целковый отобрали.
— Это беда так беда. — Сынок взял со стола вилку. — Придержи полу клифта. — Подпарывая полу, говорил: — Последнее только ты, Хан, от широты души отдать можешь. — Он справился с подкладкой и положил на стол два червонца, деньги по тем временам солидные. — А вот как мы браслетики сымем?
Хан осмотрел вилку и сказал:
— Придержи, деловой.
Сынок держал вилку, а Хан начал откручивать у нее зубец, именно откручивать, будто тот и не был железным.
— Пальчики у тебя вроде стальные, — глядя на манипуляции Хана, восхищенно сказал Сынок.
— Соху потаскаешь, обвыкнешься, — Хан отломал зубец и согнул об стол в крючок, затем опустил руку под стол и вставил крючок в замок наручника.
Глядя в потолок и шевеля губами, будто читая там какие-то заклинания, Хан через несколько минут вздохнул облегченно и положил на стол свободные руки. Потирая натруженную кисть, он посмотрел в окно и сказал:
— А вот и распогодилось.
Дождь действительно кончился, просветлело. Публика потянулась к дверям, некоторые разувались, подворачивали брюки. Хан поднялся, взял со стола червонец, другой подвинул Сынку и сказал:
— Бывай, — и шагнул к выходу. Сынок схватил его за рукав.
— А я? Кореша бросаешь, подлюга? — Он брякнул цепью наручника, который охватывал его руку.
— Сунь в карман и топай себе, дружки тебе бранзулетку снимут, — равнодушно ответил Хан. — Ты деловой, а я от сохи, нам не по дороге.
— Тебе лучше остаться, — медленно, растягивая слова, сказал Сынок.
— Не пугай, — Хан улыбнулся, лицо его вновь просветлело, но глаза были нехорошие, смотрели равнодушно.
Сынок его отпустил, взял со стола крючок, сделанный из вилки, и сказал:
— Я к тебе предложение имею. Сядь. — Он ударил кружкой по столу и, когда мальчишка-половой подбежал, сказал: — Подотри и принеси, что там из отравы имеется.
Мальчишка фартуком вытер осклизлый стол, забрал пустые кружки и исчез. Хан взял крючок, опустил руки под стол, звякнул металлом и положил наручники Сынку на колени.
— Прибереги на память, деловой.
— Ты памятливый, — Сынок спрятал наручники в карман. — Не простой ты, мальчонка, совсем не простой. — Он рассмеялся.
Хан тоже улыбнулся.
— Простых либо схоронили, либо посадили… — Он замолчал, так как подошел хозяин заведения, который, поклонившись, спросил:
— Желаете покушать, господа хорошие? — Он протер и без того чистый стол. — У нас не ресторация, но по-домашнему накормим отлично-с.
Закусочная опустела, лишь за столиком у двери пил пиво какой-то оборванец. Смокинг Сынка внушал хозяйчику уважение, и он смотрел на молодого человека подобострастно.
— Колбаса изготовлена по специальному рецепту, можно с лучком пожарить, грибочки, огурчики из подпола достанем-с…
— «Смирновская» имеется? — перебил Сынок и, поняв, что имеется, продолжал: — Корми, недорезанный, — он рассмеялся собственной остроте. — Да не обижайся, мы с тобой элемент чуждый, на свободе временно. Вот кучера собственного встретил, — Сынок указал на Хана. — Раньше-то он дальше кухни шагнуть не смел, теперь за одним столом сидим. Мы сейчас все у общего корыта, все равны.
Хозяин склонился еще ниже и доверительно зашептал:
— Этого, простите, никогда не будет. Можно у одного отнять, другому отдать. Так все равно-с, простите, один будет бедный, другой богатый.
Николай-Сынок взглянул на хозяйчика лукаво и спросил:
— А если поделить?
— На всех не хватит, — убежденно ответил хозяин. — Больно человек жаден, ему очень много надобно, — и развел руками, показывая, как много надо жадному человеку.
Хан, сидевший все это время неподвижно, глянул на хозяина недобро, покосился на Сынка:
— Так что, барин, есть будем или разговаривать?
— Ишь, — Сынок покачал головой, — пролетариат свой кусок требует. Неси, любезный, и… — он кивнул в сторону двери, у которой сидел оборванец, — не сочти за труд.
— Сей минут, в лучшем виде, — хозяйчик поклонился, подбежал к оборванцу, забрал пустую кружку, что-то зашептал сердито. Оборванец поддернул штаны, смачно сплюнул и, насвистывая, вышел на улицу. Остановился у стоявшего неподалеку от закусочной извозчика.
— Эй, ямщик, гони-ка к «Яру»!
Извозчик взглянул на рваную тельняшку, чумазое лицо и нечесанные волосы и отвернулся.
— «Я ушел, и мои плечики скрылися в какой-то тьме». Счастье свое не проспи, ямщик. — Оборванец вновь поддернул штаны и направился в сторону Тверской, свернул в Гнездниковский, вошел в здание Московского уголовного розыска, который большая часть москвичей называла МУРом, а меньшая — «конторой». Здесь оборванец зашел в один из кабинетов, где за огромным столом сидел солидный, уже пожилой мужчина в пенсне.
— Разрешите войти, товарищ субинспектор? — оборванец щелкнул каблуками.
— Вы уже вошли, Пигалев, — Мелентьев снял пенсне и начал протирать его белоснежным платком.
Агент третьего класса Семен Пигалев работал в уголовном розыске уже пятый месяц и мог быть самым счастливым человеком на свете, если бы не фамилия, к которой редкий человек мог остаться равнодушным.
Субинспектор Мелентьев никогда не позволял себе шуток по этому поводу, произносил фамилию Семена уважительно, без ухмылочек и многозначительного подмигивания. Семен взглянул на него с благодарностью и доложил: